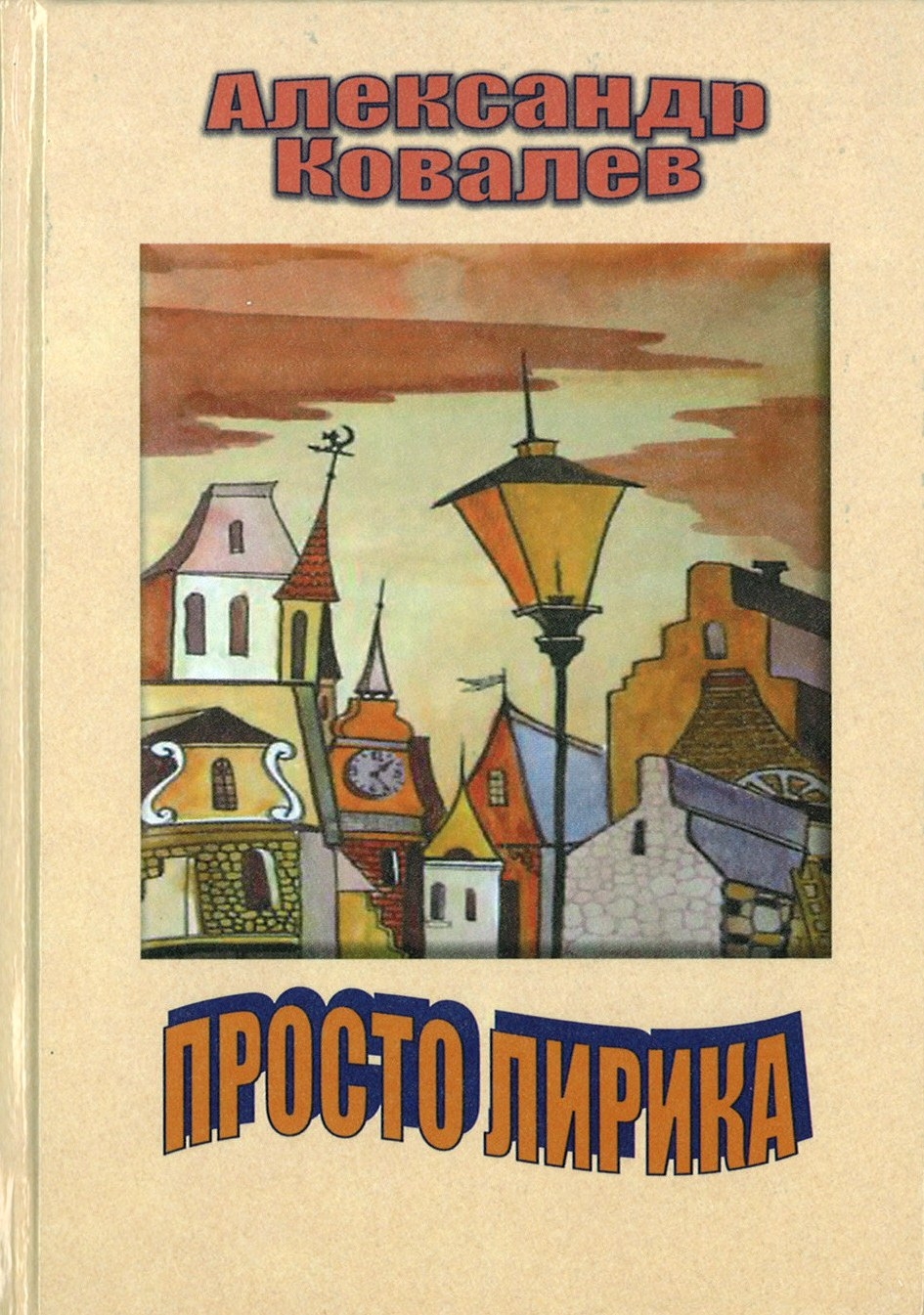 ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ
------------ РАЗНЫХ ЛЕТ
ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ
------------ РАЗНЫХ ЛЕТ
ПРОСТО ЛИРИКА
* * *
Всего-то и дел, что рукой дотянуться
и нужные в россыпи клавиш найти,
пока необузданный
сиюминутный
в душе не остыл,
не распался мотив.
Но, видимо, в жизни, поспешной и шалой,
такая нам выпала доля уже:
хотелось,
мечталось,
но что-то мешало
прислушаться к нежно поющей душе.
Какой-то пустяк -
сквознячок, мелочевка -
некстати по краешку прошебаршил.
А песня меж тем отболела
и смолкла,
и, может быть, лучшая песня души.
Теперь не осилить, назад не вернуться,
не вспомнить,
не вырвать -
свисти не свисти.
А стоило только рукой дотянуться,
и клавиши тронуть,
и вместе свести.
ПРОМАШКА
Снова в жизни случилась промашка –
перепутан с подъемом уклон.
Шел я к людям – душа нараспашку,
да не тот оказался сезон.
Подивился народ на дурашку.
да по избам – из мерзлых сеней.
Эка невидаль – весь нараспашку
посередке зимы дуралей.
Ну а я повздыхал, да – под горку,
восвояси сквозь холод и глушь.
Знать, и вправду,
в стране моей горькой
не сезон для распахнутых душ.
Знать, и вправду,
не след суетиться,
и себе приказать есть резон:
пережить,
переждать,
перебиться
до иных, подходящих времен.
Так я шел через мрак снегопада,
воротник подымал до ушей.
И себе объяснял все, как надо,
и с собой соглашался уже.
Но щемило и жгло под рубашкой,
билось в ребра у левой руки,
словно что-то рвалось нараспашку
всем сезонам земным вопреки.
КОРНИ
Вдруг полночью питерской, белой
привиделось, кровь леденя,
летящее белое тело,
летящего степью коня.
Проснулся в сознанье мятежном -
откуда тот сон залетел?
Я степью не хаживал прежде,
в седле отродясь не сидел.
Тот стебель под корень отхвачен -
не сыщется даже жнивья.
Последние песни казачьи
отпели мои дедовья.
На кольском, чужом полустанке,
обочь от колючих оград
последние шапки-кубанки
с дядьями в могилах лежат.
Другие слова и мотивы
поет, собираясь родня.
Откуда же белая грива,
летящего степью коня?
...Так думалось мне одиноко
в ту долгую белую ночь.
А ночь суетилась у окон,
пыталась, как прежде, помочь.
Но в жилах - скажите на милость,
откуда?,
с какой стороны? –
кровиночка странная билась,
привычные путала сны.
ПАТЕФОН
Синий ящик патефона
среди хлама в гараже
вдруг напомнил
время оно,
невозвратное уже.
Крутанул рычаг манящий,
пыль с пластинки старой смёл.
Вот так штука! -
чудо-ящик -
заскрипел себе,
пошел.
И качнулся воздух гулко,
будто хриплая игла
проскрипела в закоулке,
где давно покой и мгла.
Там, где тускло и невнятно -
чьи-то лица,
имена...
Там, где память невозвратно
время оно замела.
КИНОИЛЛЮЗИИ
Мальчик в курточке модного кроя -
руки - в брюки, походка легка -
очарованный киногероем
заграничного боевика.
Он идет сквозь густеющий вечер
в заафишную вязкую тьму,
и красавиц рисованных плечи
светят в сумерках только ему.
Он проходит своим переулком,
напружинен, отважен, рисков,
и разносится в воздухе гулком
дробный вызов его каблуков.
О, как сладко, играя фартово,
с безрассудством тринадцати лет,
принимая себя за другого,
"из-за пояса рвать пистолет"...
Мальчик в курточке модного кроя
из знакомого мне городка,
очарованный киногероем,
он не знает, не знает пока,
что давно уже ведомо многим,
но покуда не понято им:
Ах, как горько бывает в итоге
становиться собою самим.
СНЫ
Я помню сон.
Мне снился остров дальний,
где по утрам беспечно пели птицы,
и дом дремал под рыжей черепицей
в ограде тополей пирамидальных.
Я помню май,
поправший все прогнозы, -
неистовый, ликующий, духмяный.
Я просыпался сумасшедше рано,
в шестом часу,
и все казалось поздно.
Казалось, все давно уже случилось:
роса упала, и сирень раскрылась,
мир без меня отпраздновал рассвет...
Как страшно опоздать
в шестнадцать лет.
... Еще был сон.
Зачем-то снилось лето,
где по утрам поют все те же птицы,
и дремлет дом под рыжей черепицей,
и мне не страшно опоздать к рассвету.
Июль, и все давно вошло в привычку.
Мне скоро тридцать
(как-то даже странно),
и я встаю не поздно и не рано -
к удобной ежедневной электричке.
Будильник, чайник на электроплитке,
сто метров от платформы до калитки -
все до минут сложилось, утряслось...
Но где-то глубоко,
я это знаю,
живет во мне, как отголосок мая,
все тот же майский,
въедливый вопрос:
Ну хоть к полудню я не опоздаю?
И, словно девушка из врубелевской рамы,
вслед из окна с надеждой смотрит мама,
такая же, как в мае,
молодая.
ПРОВИНЦИЯ
Провинция - великая провидица
всех завтрашних парламентских забот -
когда в столицах грозы лишь предвидятся,
провинция уже шинели шьет.
Провинция - привычная провидица,
ей все всегда известно наперед -
когда в столицах голод лишь предвидится,
провинция уже с сумой бредет.
Провинция - бесстрашная провидица.
Когда в страну грядет недобрый гость,
когда в столицах мор едва предвидится,
провинция уже кроит погост.
Провинция - сердечная провидица -
в беде не поскупится, не предаст,
когда в нужде столица выжить силится,
с себя рубашку снимет и отдаст.
Провинция - тишайшая провидица.
Когда ее награда обойдет,
не шикнет на столицу, не обидится,
а дружно стольной славе подпоет.
ЭЛЛАДА НЕ РИФМУЕТСЯ
С КОРРИДОЙ
Эллада не рифмуется с корридой -
не тот пошиб,
другие страсть и тайна,
хоть так близки, и так похожи с виду
и южный пыл,
и звучность окончанья.
А с чем тогда рифмуется Эллада?-
с любовью?,
с виноградною лозою?
Наверно, так,
как с кровью и грозою
рифмуются арена и коррида.
А счастье не рифмуется с любовью -
иные фонетические корни.
И от того любовь
рифмуют с кровью,
которой в пору цвет
и запах бойни.
А мама не рифмуется со счастьем
покуда мама -
та, что моет раму,
и почта не приносит телеграмму
щемящую,
как за стеклом ненастье.
* * *
Пора грустить, пора печалиться -
теперь уж в точности проверено:
увы, ничто не возвращается,
ни времена,
ни вдохновение.
А на подмостках рифмы пенятся -
имен без счета напророчено.
Но век серебряный не сменится,
ни золотым,
ни позолоченным.
ВОСПОМИНАНИЕ О СТАРОМ ЦИРКЕ
Ах, эта милая округе
афиша цирка шапито,
где мчалась всадница по кругу
в трико червонно-золотом.
Где сквозняки входили в щели
брезентовых, непрочных стен.
Где, замирая, мы глядели
под купол лучшей из арен.
О, как давно все это было -
теперь припомнит мало кто.
С фанерной тумбы время смыло
афишу цирка шапито.
В круговороте обновленья
не сосчитать таких разлук.
Глядят иные поколенья
в арены капитальный круг.
И, замирая от испуга,
опять следят с открытым ртом,
как мчится всадница по кругу
в трико червонно-золотом.
АТТРАКЦИОН
С.Дроздову
Желающих - хоть завались...
В лубочном, ярмарочном блеске
набором самых разных лиц
торгуют в бойком королевстве.
Давай завалимся и мы
в заезжий смех.
Товар расхожий -
аттракцион из Костромы.
Почем у них сегодня рожи?
В цене куриного яйца? -
могли бы заломить и круче.
Необязательность лица -
какой товар на свете лучше?
Вот этот, желчный, словно тать,
старик с худобою изгоя,
а в зеркале, ни дать - ни взять,
вальяжный франт с полотен Гойи.
А рядом с цинковым ведром
бочкообразная торговка.
Ах, как бедром поводит ловко,
изящней юной Жирардо.
Барышник с кротостью скопца,
монгол с округлым совьим оком...
На выбор тридцать три лица -
за гривенник поврозь и оптом.
...Два выжиги, два хитреца,
давай и мы в созвездье ярком
отыщем нужных два лица:
я - Алигьери,
ты - Петрарки.
Давай и мы, как тот старик,
не горбясь,
высоко и прямо
пойдем, неся свой новый лик
над склочным ярмарочным гамом,
чтоб на мгновенье, словно блиц,
смутить толпу не трубным звуком -
сияньем звездным наших лиц
ценою гривенник за штуку.
МУЗЫКАНТ
В старом клубе, где между сеансами
пьют ситро и стоят у гардин,
в черном фраке с бортами атласными
он выходит к роялю один.
Он садится с поклоном на краешек
полированной жесткой скамьи,
и старательно трогает клавиши
каждый вечер с пяти до восьми.
Он играет из Листа и Шуберта
под галдеж и буфетный трезвон.
Не беда, что почтенная публика
не оценивает имен.
Не беда, если вовсе не вежлива,
и в награду тебе - ни хлопка.
Он сыграет ей Грига и Гершвина,
как всегда, до второго звонка.
А когда тишиной занавесится
на последний сеанс кинозал,
он присядет за стойку к буфетчице,
тихо спросит:
- Ну, как я играл?
И она, сняв передничек с кружевом,
примет с легкостью на душу грех
и ответит:
- Я просто заслушалась,
ты сегодня играл лучше всех.
ПРИЛУКИ
В сонном городе Прилуки,
вызывающе чужой,
я гуляю - руки в брюки -
по центральной мостовой.
Мимо бани, мимо чайной,
мимо выцветших витрин.
Мимо глаз провинциальных
из-за тюлей и гардин.
Мимо почты и конторы,
и продмага номер пять.
Мимо девушек, которых
вряд ли стану вспоминать.
Я иду, беспечно ровен,
чуть кося из-под ресниц,
на два дня командирован
из блистательных столиц.
В модной кожаной тужурке,
в новом импортном кашне.
В тусклом городе Прилуки
очарованы вполне.
Я иду себе, шагаю,
независим, как Персей...
И не знаю, и не знаю,
то, что через пару дней,
не почувствовав разлуки,
память не обременя,
в дальнем городе Прилуки
вряд ли вспомнят про меня.
ПОХОЛОДАНЬЕ
Похолоданье.
У природы
свой календарь и свой каприз.
Ну что ж, сливай, водитель, воду,
лей в радиатор антифриз.
Похолоданье.
Раньше срока –
дожди со снегом пополам.
В домах привычная морока –
законопачиванье рам.
Похолоданье - оправданье
прогнозов и чужих надежд,
всемирный праздник одеванья
пронафталиненных одежд.
Похолоданье - гибель тлена,
из наших окон новый вид,
и ощущенье перемены
в чуть-чуть густеющей крови.
* * *
Пойдем мимо ветхой ограды
в осенний, заброшенный сад,
где так упоительно сладок
был первой листвы аромат.
Где в тихой, тенистой аллейке,
однажды открывшейся нам,
синицы играли на флейте,
приветствуя нас по утрам.
Пойдем вдоль акаций и кленов
туда, где у сонной воды
в опавшей листве золоченой
теряются наши следы.
Туда, где с душою флейтиста
садовник еще и теперь
слетевшее золото числит
горчайшей из наших потерь.
ОСЕННИЙ РОМАНС
Этой ночью глухой, безголосой,
сквозь пролом в обветшавшей ограде
я увел синеглазую осень
из чужого, счастливого сада.
В небо тонкие ветви отбросив,
шелестели деревья в досаде -
он увел синеглазую осень
из чужого, из нашего сада.
Под ногами, ворочаясь в росах,
трепетали душица и мята -
он увел, он украл эту осень
из чужого, из нашего сада.
И, качаясь кричащим вопросом,
лунный серп посреди звездопада
повторял -
ну зачем тебе осень
из чужого, счастливого сада?
А она, молода и беспечна,
и еще не похожа на осень,
шла бесстрашно, набросив на плечи
тонкий плащик свой светловолосый.
И шептала чуть-чуть виновато
у щеки моей бледной и стылой -
ты не спорь с ними, милый, не надо.
Ты веди, ты веди меня, милый...
И тогда удивленно и разом
смолкли шелест и ропот над нами.
Лишь каблук мой постукивал рядом
с золотыми ее каблучками.
Да в ночной, настороженный воздух
там, за старой и ветхой оградой,
гулко падали спелые звезды
с горьких крон опустевшего сада.
ГУД ЛАК
Примешь мяч
с сумасшедшей подачи,
в слякоть выскочишь
на каблучках, -
я желаю тебе удачи.
Улыбнешься в ответ -
Гуд лак.
Будним днем на проспекте Стачек
промелькнешь
в голубых "жигулях", -
я желаю тебе удачи.
Просигналишь в ответ -
Гуд лак.
Ушибешься -
в подушку плачешь,
ни кровиночки на губах.
Я желаю тебе удачи.
Тихо всхлипнешь в ответ -
Гуд лак.
Жизнь в минуту переиначишь -
рассмеешься -
какой пустяк...
Я желаю тебе удачи.
Пожелай мне в ответ -
Гуд лак.
ПОСЛЕДНИЙ СНЕГОПАД
Последний снегопад
над переулком кружит.
Приплюснуть нос к стеклу,
что холоднее льда, -
смотреть во все глаза,
как, шлепая по лужам,
еще одна зима
уходит навсегда.
Последний снегопад
так тих, так осторожен,
так запоздало щедр
в канун апрельских дат.
Последний снегопад
души не потревожит:
последний снегопад -
не первый снегопад.
И все-таки всмотрись,
как славен и беспечен
последний снеголёт,
окутавший дома...
Я знаю, ты придешь,
продрогшая, под вечер
и скажешь мне, смеясь,
что кончилась зима.
Что этот снег не в счет,
что он напрасно кружит.
Что через день-другой
проснется лебеда...
А снег летит, летит,
скользит по темным лужам
и, отражаясь в них,
сгорает без труда.
ПРОЗРАЧНОЕ
Вот и пришло опять
время пустых скворешен.
Листья сгребает мать,
пилит отец черешню.
Ходит в руке пила,
точит кору сухую -
жалко, а все ж пора,
время сажать другую.
Где-то сквозь листопад
плачет чуть слышно птица.
Ветер летит сквозь сад -
не за что зацепиться.
КЕНТЕРБЕРИЙСКАЯ ЭЛЕГИЯ
(стихи о загранице)
ОСЕНЬ В МОНПЕЛЬЕ
Над Монпелье кружила осень.
То тут, то там с протяжным свистом
в еще безоблачную просинь
срывались стаи желтых листьев.
То тут, то там с печальным скрипом
плотнее притворялись двери.
И отбивали время хрипло
куранты на фасаде мэрии.
Мундиры застегнув потуже,
под ветром ежились ажаны.
Носы в шарфы засунув глубже,
спешили мимо горожане...
И лишь на площади Трех граций
у знаменитого фонтана
в янтарных кронах трех акаций
иная музыка витала:
шарманщик в клетчатом жилете,
вращая ручку в ритме вальса,
один, казалось, в целом свете
не замечал тоски Прованса.
ЭЛЬСИНОР
В Эльсиноре ноябрь.
Туристский сезон на исходе.
Кроны ив королевских прозрачны,
беспечно легки.
А у Ханса с утра
поясница болит к непогоде,
а по замку с неделю
гуляют одни сквозняки.
Старый ключник ворчлив,
но ворчит он с достоинством, в меру.
Он тяжелым ключом
отпирает тяжелую дверь.
Он идет анфиладой,
сдвигая на окнах портьеры:
"Вы просили, я отпер.
Смотрите, внимайте теперь".
Торопливый закатик
мазками неяркого света
красил зеленью кровли,
слегка золотил купола...
Неужели когда-то
здесь пела безумная флейта,
и звенели клинки,
и Офелия принца ждала?
О, как хочется верить
в легенду красивую эту!
Но вокруг - ни следа, ни намека -
музейная тишь.
Только шелест портьер,
да еще впереди - по паркету
старый ключник в шинели,
скользящий бесшумно, как мышь.
Как давно это было.
Забылись подробности драмы.
"Связь времен" обмелела,
остались одни ручейки.
Прав старик -
как здесь дует в оконные рамы,
и по замку давно уж
гуляют одни сквозняки.
...В Эльсиноре ноябрь.
В кофейнях и барах безлюдно.
Сувенирные лавки
давно не стоят за ценой.
Две озябшие чайки
печально кричат с Эрисунда
да еще старый ключник
нам вслед долго машет рукой.
ЛЮБЕКСКАЯ РОМАШКА
В городишке далеком, не нашем,
с романтическим именем Любек,
кто гадает на русской ромашке
вековечное "Любит - не любит"?
У нее горсть веснушек на коже
и глаза василькового цвета.
У нее не выходит, похоже,
с вековечным, желанным ответом.
Но девчонка на редкость упорно
теребит свой букетик неяркий,
и взмывают с ладони покорно
лепестки над полуденным парком.
Улетают в зенит невесомо,
отделяясь от тонкого стержня,
не боясь реактивного грома,
все безумней грозящего с неба.
И кружат над землею бесстрашно,
подчиняя желанью пространство.
Дай ей бог, синеглазой ромашке,
этой смелости и постоянства.
В городишке твоем над рекою,
там, где дремлют ганзейские липы,
я желаю тебе всей душою
чтобы все-таки выпало "ЛИБЕ".
С ДОБРЫМ УТРОМ ЭСТОНИЯ
1. НЕЗНАКОМКА
На заре возле пристаньки утлой,
Там, где берег извилист и пуст,
Я сказал тебе:
- Доброе утро.
Ты ответила:
- Тере микуст.
Улыбнулась и дальше -
Вдоль плеса
Легким шагом у самой воды,
Исчезая в тумане белесом.
Лишь песок отпечатал следы.
В этом мире, случайностей полном,
Так легко обрывается нить:
Я лица твоего не запомнил,
Как зовут, не решился спросить.
Зыбкий след твой навеки,
с обветренных пляжей
Время стерло неловкой рукой.
Но мне хочется верить:
Однажды
Я еще повстречаюсь с тобой.
На земле твоей доброй и мудрой,
Там, где берег извилист и пуст,
Я скажу тебе:
- Доброе утро.
Ты ответишь мне:
- Тере микуст.
2. В КОФЕЙНЕ НА УЛОЧКЕ РАНУ
Заглянем на улочку Рану,
где в тихой кофейне "Парнас"
и цены вполне по карману,
и место найдется для нас.
Здесь год перемен не накопит -
все тот же уют и покой.
Нам Хельга отменнейший кофе,
как прежде, заварит с тобой.
Присядет к столу на минутку -
все те же морщинки у глаз -
и скажет, как водится, в шутку:
- Сто лет не бывали у нас.
А мы рассмеемся и с блеском
отшутимся из-за стола
таким убедительно-веским,
внушительным словом - "дела".
И станет так славно,
как будто
в разлуке не год пролетел,
а вышли всего на минуту
и кофе остыть не успел.
3. ПРОЩАНИЕ С ОСЕННИМ ПЯРНУ
Лист лиловый,
лист ольховый
в синеве сырой и пряной,
лист случайный,
лист печальный
над осенним кружит Пярну.
Вот и все.
Пора настала
разлетаться в одиночку.
Лист лиловый,
лист усталый
в низком небе ставит точку.
Он кружит неторопливо,
словно хочет дать отсрочку.
Но суда кричат с залива -
ставят точку,
ставят точку.
Но стучат,
стучат с откоса
в направлении восточном
неподкупные колеса -
ставят,
ставят,
ставят точку...
Лист ольховый,
лист последний
меж цветением и Летой -
мой единственный посредник,
мой единственный свидетель -
тихо сядет мне на плечи
и слетит, подхвачен стужей.
Лист лиловый,
лист беспечный
над осенним Пярну кружит.
ВОДИЛА
У заглохшего ЗИЛа
в небо смотрит капот.
Под капотом водила
железяку клянет.
Меж прокладок и гаек,
вдохновенен и зол,
виртуозно спрягает
однозвучный глагол.
Но мотор - ни в какую,
как его не спрягай,
лишь метафоры всуе
расплескал через край.
И сомнение гложет
молодое чело:
«жечь глаголом», похоже,
не его ремесло.
КАК ВСЕ
Кто-то рискнул
на крутом вираже -
кровью умылся на встречном ноже.
Следуй по правой, своей полосе.
Делай, как все.
Делай, как все.
Клинит рули и
бессилен мотор -
что же ты шторму наперекор?
Жмись, как другие бортом к косе.
Делай, как все.
Делай, как все.
Срезалась связка
и в бездну - со скал.
Горький итог, ты иного искал?
Мог бы, как все - по траве, по росе...
Ну почему
ты не хочешь, как все?
И, сквозь хорал
осуждающих труб,
из глубины окровавленных губ -
эта великая наша вина
всех поколений,
во все времена,
движущий миром,
беспомощный вздох:
Делать, как все?,
я хотел,
но не мог.
В ЛОДКЕ
Только бы смочь,
только б суметь!
Но до причала -
волны и ночь:
не одолеть,
не докричаться.
Видно — одно:
к рыбам на дно.
Но в круговерти
светит окно,
чье-то одно
все-таки светит.
Значит, и нас
кто-то сейчас,
в лютую полночь,
там, на земле,
даже во мгле
все-таки помнит.
Слышите там,
на берегу,
верьте и ждите!
Я - как-нибудь
сдюжу, смогу...
Свет не гасите.
* * *
Ещё, чем круче,
тем заветней,
но тем грустней день ото дня.
"Красивый, двадцатитрехлетний..." -
увы, уже не про меня.
Ещё, чем выше,
тем желанней,
но все отчетливей в груди:
мои вершины мирозданья
и перевалы позади.
Ещё под куполом манящим
так ослепительна
звезда...
Но все пронзительней и чаще
смотрю в далекое, туда,
где я над крутизной
запретной,
глотая воздух жадным ртом,
"красивый, двадцатитрехлетний",
карабкаюсь за окоём.
* * *
Пережить бы критический возраст,
оказаться на том рубеже,
где – больной,
отвратительней подлость,
но обиды терпимей уже.
Где не в спешке,
не вдруг,
не на ощупь,
и не под шепоток со спины
с каждым днем и яснее,
и проще
пониманье добра и вины.
Где по-прежнему нет и в помине
ни удач, ни в кармане гроша...
Но смиренней, чем прежде,
гордыня,
но просторней, чем прежде,
душа.
ВОЛЧЬЯ БАЛЛАДА
Это только у вольного воля:
высь у птицы,
леса у зверья
и у житного колоса поле.
Но у каждого доля своя.
Ах, как пахла та воля с откосов,
то полынью, а то чебрецом,
но летел зоопарк на колесах -
только пыль завивалась кольцом.
Только тело привычно и четко
напружинивалось при толчках,
и, расчерченная решеткой,
стыла степь в узких волчьих зрачках.
Сколько было шоссе и проселков,
сколько глаз у чужих площадей...
Воля - вольному, волково - волку -
он давно это знал от людей.
Но однажды в лихом перепутье
отказали в ночи тормоза,
и распались железные прутья,
и полынью плеснуло в глаза.
Как он мчал сквозь спрессованный воздух,
грудью рвал непроглядную тьму.
И высокие синие звезды
путь к свободе чертили ему.
А когда он упал, обессилев,
этой радостной гонкой гоним,
вековечные травы России
тихо-тихо сомкнулись над ним.
Звезды синие блекли на синем,
ветер рвал горизонта края:
- Ты, рожденный в неволе, отныне
стал свободен.
Свободен, как я!
О, как сладко мгновения эти
разрывали рычанием грудь:
- Я свободен!
Свободен, как ветер.
Но услышьте же хоть кто-нибудь...
Но качался ковыль, словно море,
а вокруг - ни друзей, ни врагов
в обступившем безмолвном просторе
без решеток и без берегов.
И тогда с нестерпимою болью
понял он: как ее не лови,
это только у вольного воля,
если воля с рожденья в крови.
Понял с мукой, неведомой зверю,
что не сможет и нескольких дней
без фургона с решетчатой дверью,
и без шумных людских площадей.
День рождался из ветра и хмари.
Лапы сами несли по росе
к той черте, где в бензиновой гари
громыхало родное шоссе.
Вот сейчас тормознут под уклоном,
сеть накинут, и дело с концом.
Но катился фургон за фургоном,
только пыль завивалась кольцом.
И вертелись, вертелись колеса
равнодушно, размеренно так...
И тогда он метнулся с откоса
в раздирающий скрежет и мрак.
... День родился шумлив, озабочен.
Солнце плавило росную стынь.
С окровавленных, пыльных обочин
горько-горько дышала полынь.
ОБЛАКО
Посреди степного зноя,
космы в небе разметав,
это облако шальное
шло за мною по пятам.
Не гремело,
не сверкало,
молчаливее ножа
настигало,
настигало,
ну а я бежал,
бежал.
Разрывая сухожилья
мчался, ноги кровеня.
А оно легко накрыло,
но не тронуло меня.
Только тень мою качнуло
в оседающей пыли,
замело,
перечеркнуло,
словно вытерло с земли.
ЛЫЖНЫЙ СЛЕД
Чей лыжный след неверный,
осторожный,
растерянный,
на всей земле один
бледнеет после утренней пороши
меж этих редких елей и осин?
Зачем он здесь,
зачем петляет ложно
где - ни жилья,
ни путного зверья?
Что ищет он,
что отыскать возможно
в такой глуши к исходу января?
А ветер кружит,
снеги наметает -
ему нет дела до чужих потерь.
Чей лыжный след?
Куда?
Зачем петляет?..
Ищи-свищи свой собственный теперь.
Я У БОГА УБОГИМ НЕ БЫЛ
А я у Бога убогим не был,
хотя и первым не часто был.
Не от того, что не жаждал неба,
а просто землю сильней любил.
И я у мира просил не мирры,
не монументов до самых звезд,
а просто жизни под небом мирным,
чуть-чуть удачи, поменьше слез.
Просил немного себе в награду -
тепла в морозы, прохлады в зной,
и пониманья у тех, кто рядом,
и тех, кто - обочь и не со мной.
Не "лести и не хвалы надменной
в собраньях чопорных при дворе" -
просил любви я у всей Вселенной
и у былинки на пустыре.
И сам любил даже в сумрак стылый
людей и реки, и города...
И верил в то, что меня любили
и понимали хоть иногда.
И если это, пускай не часто,
но все же было в моей судьбе -
нет лучшей доли и выше счастья,
которых можно желать себе.
Я у лампады персты согрею,
пока перо и душа не лгут.
А с небожительством я успею,
и монументы мои подождут.
Более подробно с поэзией А.Ковалева можно ознакомиться на сайте: http://lit.lib.ru/k/kowalew_a_n/indexdate.shtml